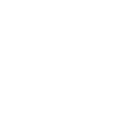>> ВЕНЕЦИАНСКИЙ КУПЕЦ
>>
>> -- Ну что мне вам сказать? Вы, конечно, можете не верить, но меня, Розу Абрамовну, во время войны спасли немцы, чтоб они сгорели! Точнее,
немецкая бомбардировочная авиация. Если б это чертово Люфтваффе вовремя не налетело - я бы погибла. Думаю, перед вами уникальная
личность, которая осталась жить благодаря бомбежке...
Если вы жили в Ленинграде, то должны знать, что до войны я была Джульеттой. Семь лет никому этой роли не поручали, кроме меня.
Перед самой войной Джульетта влюбилась, - нет, не в Ромео, это был подонок, антисемит, а в Натана Самойловича, очередного режиссера,- и
должна была родить. Аборты в то время, как, впрочем, и все остальное, были запрещены. Что мне было делать - вы представляете беременную
Джульетту на балконе веронского дома Монтекки?.. Нет повести печальнее на свете...
Я кинулась в "абортную" комиссию к ее председателю, удивительному человеку Нине Штейнберг. Она обожала театр, она была "а менч", она б
скорее допустила беременного Ромео, чем Джульетту, и дала мне направление на аборт. Оно у меня до сих пор хранится в шкафу, потому
что Натан Самойлович, пусть земля ему будет пухом, сказал: "Пусть я изменю искусству, но у меня будет сын. Шекспир не обидится..."
И я играла беременной. Впрочем, никто этого не замечал, потому что Джульетта с животом была худее всех женщин в зале без живота.
Вы можете мне не верить - схватки начались на балконе. Я начала говорить страстно, горячо, почти кричать - мне устроили овацию. Они,
идиоты, думали, что я играю любовь, - я играла схватки. Натан Самойлович сказал, что это был мой лучший спектакль... Схватки
нарастали, но я все-таки доиграла до конца, добежала до дома падре Лоренцо и бросилась в гроб к Ромео.
Прямо из гроба меня увезли в родильный дом. Измена Натана Самойловича искусству дала нам сына. Чтобы как-то загладить нашу вину
перед Шекспиром, мы назвали его Ромео. Но эти черти не хотели записывать Ромео, они говорили, что нет такого советского имени Ромео,
и мы записали Рома, Роман - еврейский вариант Ромео... Я могла спокойно продолжать исполнять свою роль - взлетать на
балкон, обнимать, любить, но тут... нет, я не забеременела снова - началась война.
Скажите, почему можно запретить аборты и нельзя запретить войну? Всегда не то разрешают и не то запрещают.
Натан Самойлович ушел на войну, уже не режиссером, а добровольцем, - у них была одна винтовка на семерых, "и та не стреляла", как он
писал в первом письме. Второго письма не было...
Мы остались с Ромео. Я продолжала играть, но уже не Джульетту. Я играла народных героинь, солдаток, партизанок. И мне дали ружье.
Я была с ружьем на сцене, он в окопе - без. Скажите, это нормальная страна?
Весь наш партизанский отряд на сцене был прекрасно вооружен. У командира был браунинг. В конце мы выкатывали пушку. Вы представляете,
какое значение у нас придавалось искусству? Мы храбро сражались. В конце меня убивали. Со временем партизанский отряд редел: голод не тетка - пирожка не поднесет. Командира в атаку поднимали всей труппой - у него не было сил встать. Да и мы шли в атаку по-пластунски. Политрука посадили: он так обессилел, что не мог произнести "За Родину, за Сталина!", его хватало только на "За Родину..." - и он сгинул в "Крестах".
Истощенные, мы выходили на сцену без оружия, некому было выкатить пушку, некому было меня убить...
И, чтоб спасти своего Ромео, Джульетта пошла на хлебозавод. Вы представляете, что такое в голод устроиться на хлебозавод? Это
примерно то же, что в мирное время устроиться президентом. Туда брали
испытанных коммунистов, несгибаемых большевиков с большой физической силой.
Вы представляете себе Джульетту несгибаемой коммунисткой с железными бицепсами? Но меня взяли, потому что директор, красномордый,
несмотря на блокаду, очень любил театр, вернее, артисточек. Вся женская часть нашего поредевшего партотряда перекочевала из брянских
лесов на второй хлебозавод. Я могу вам перечислить, кто тогда пек хлеб: Офелия, Анна Каренина, все три чеховские сестры, Нора Ибсена,
Укрощенная Строптивая и Джульетта... Мы все устроились туда с коварной целью - не сдохнуть!
Каждое утро я бросала моего Ромео и шла на завод. Я оставляла его с крысами, моего Ромео, они бегали по нему, но он молчал - он ждал
хлеба. И я приносила его. Я не была коммунисткой и у сердца носила не партийный билет, а корку хлеба. Каждый день я выносила на груди хлеб,
я несла его словно динамит, потому что, если б кто-то заметил, - меня б расстреляли, как последнюю собаку. Чтобы расстрелять, у них всегда
есть оружие. Меня бы убили за этот хлеб - но мне было плевать на это. Я несла на своих грудях хлеб, и вахтер, жлоб из Тамбова, ощупывая меня
на проходной, не решался прикоснуться к ним. Он знал, что я Капулетти, и сам Ромео не смел касаться их...
И потом, даже если бы он посмел!.. Вы знаете, актрисы умеют защищать свои груди.
Я выходила в ночной город. Я шла по ночному Ленинграду и пахла свежим хлебом. Я боялась сесть в трамвай, шла кружными путями, Обводным каналом. От меня несло свежим хлебом - и я боялась встретить людей. Я пахла хлебом и боялась, что меня съедят. Даже не то что меня, а хлеб на моей груди. Я вваливалась ночью в нашу комнату с затемненным окном, доставала хлеб - и у нас начинался пир. Я бывала в лучших ресторанах этого мира - ни в одном из них нет подобного блюда. Ни в одном из них я не ела с таким аппетитом и с таким наслаждением.
Ромео делил хлеб ровно пополам, при свече, довоенной, найденной под кроватью, и не хотел взять от моей порции ни крошки. Он учил меня
есть.
-- Жуй медленно, - говорил он, - тогда больше наедаешься.
Наша трапеза длилась часами, в темноте и холоде блокадной зимы. Часто я оставляла часть хлеба ему на утро, но он не дотрагивался до него,
и у нас скопился небольшой запас. Однажды Ромео отдал все это соседу-мальчишке за еловые иглы.
-- Твоей матери нужны витамины, - сказал этот подонок, - иначе она умрет. Дай мне ваш черствый хлеб, и я тебе дам еловых иголок. Там
витамины и хлорофилл. Ты спасешь ей жизнь. И Ромео отдал.
Он еще не знал, что такое обман. Я не сказала ему ни слова и весь вечер жевала иглы.
-- Только больше не меняй, - проговорила потом я. - У нас сейчас столько витаминов, что их хватит до конца войны...
Этот подонок сейчас там стал большим человеком - а гройсе пуриц. Он занимается все тем же: предлагает людям иголки - витамины хлорофилл...
Директор, красномордый жеребец, полнел, несмотря на голод. Какая-то партийная кобылица помогла ему комиссоваться и устроила директором. Он не сводил с меня своих глупых глаз.
-- Тяжело видеть Джульетту у печи, - вздыхал он, - это не для прекрасного пола, все время у огня.
-- Я привыкла, - отвечала я, - играла роли работниц, сталевара.
-- И все же, - говорил он, - вы остались у печи одна. Офелия фасует,
Дездемона - в развесочном и все три сестры - на упаковке.
-- Я люблю огонь, - отвечала я.
Я не хотела бросать печь, потому что путь к распаковке лежал через его конюшню...
Однажды, когда я уже кончила работу и, начиненная, шла к проходной, передо мной вдруг вырос кобель и попросил меня зайти в свой кабинет.
На мне был хлеб, это было опаснее взрывчатки. Он закрыл дверь и нагло, хамски начал ко мне приставать.
Я вас спрашиваю: что мне было делать?
Если б я его ударила - он бы меня выгнал, и мы бы остались без хлеба.
Если б я уступила - он бы все обнаружил, - и это расстрел.
Что бы я ни сделала - меня ждала смерть.
Он пошел на меня. Отступая, я начала говорить, что такой кабинет не для Джульетты, что здесь противно, пошло... Он наступал, ссылаясь на условия военного времени. Я орала, что привыкла любить во дворцах, в веронских палаццо, и всякую чушь, которая приходила в голову, потом размахнулась и врезала ему оглушительную оплеуху.
Он рассвирепел, стал дик, злобен, схватил меня, сбил с ног, повалил и уже подступал к груди.
Я попрощалась с миром.
И тут - я всегда верила в чудеса! - завыла сирена - дико, оглушительно, свирепо. Сирена воздушной тревоги выла безумно и
яростно, - наверно, мне это казалось... Он вскочил, побежал, путаясь в спущенных штанах, - как все подонки,
он боялся смерти, - штаны падали, он подтягивал их на ходу на свою трясущуюся белую задницу, и я засмеялась, захохотала, впервые за всю
войну, и прохохотала всю воздушную тревогу, - это, конечно, был нервный приступ: я ржала и кричала "данке шен, данке шен" славному
Люфтваффе, хотя это было абсолютным безумием... До бомбоубежища он не добежал, его ранило по дороге шрапнелью, и вы
не поверите - куда! Конечно, война - ужасная штука, но иногда шальная шрапнель - и все!..
Мы ожили - я, Дездемона, Офелия, Укрощенная Строптивая. Мы пели "Марш энтузиастов"...
Он потерял к нам всякий интерес. И к театру. И вообще - к жизни. Он искал смерти - он потерял все, что у него было. Вскоре он отправился
на фронт. Рассказывают, что он дрался геройски, - так мстят за святое, причем, как утверждали, целился он не в голову...
Прорвали блокаду, мы выехали из Ленинграда через Ладогу, в Сибирь,
после войны вернулись, жили еще лет двадцать на болоте, а потом вот приехали в Израиль. Я играла на иврите, уже не Джульетту - ее мать,
потом кормилицу. Живем мы втроем - я, Ромео и Джульетта. Вы не поверите - его жену зовут Джульетта.
Сплошной Шекспир...
Я как-то сказала ему, чтобы он женился на женщине, от которой пахнет не духами, а свежим хлебом, - и в кибуце он встретил Джульетту.
Он был гений, мой Ромео - он играл на флейте, знал китайский, водил самолет. И вы не поверите, кем он стал - директором хлебозавода в
Холоне. Мне стало плохо - я все еще помнила того. Из этого вот шкафа я достала старинное направление на аборт и стала махать перед его
красивым носом. -- Что это? - спросил он. -- Направление на аборт! На который я не пошла. Но если б я знала,
кем ты станешь!.. Ты же все умеешь - стань кем-нибудь другим. Инженером. Философом. Разводи крокодилов!
Но кто слушает свою маму?
Иногда вечерами он приходит и достает из-под рубашки горячую буханку.
-- Дай мне лучше еловых иголок, - говорю я, - мне необходимы витамины...